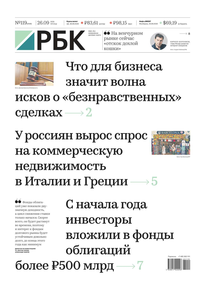В последние месяцы архивы начали менять условия доступа к делам репрессированных, рассказали РБК исследователи и сотрудники трех региональных архивов, по словам которых теперь такие дела выдают только близким родственникам.
«На прошлой неделе у меня были заказаны архивные дела [по репрессированным], я с ними работал, но не закончил, — рассказал РБК историк и исследователь из Свердловской области Олег Новоселов. — Собирался продолжить с ними работать в понедельник, но в пятницу мне позвонили из архива и сказали: «Извини, мы твои дела сдаем обратно в хранилище». По словам Новоселова, архивисты сослались на распоряжение руководства никому ничего не выдавать, кроме родственников, которые смогут подтвердить родство. Сотрудники архива пояснили ему, что такое распоряжение поступило из Федерального архивного агентства (Росархива).
РБК позвонил в десять архивов в девяти регионах России. В трех из них — Государственном архиве административных органов Свердловской области, Объединенном государственном архиве Челябинской области и Государственном архиве новейшей истории Костромской области — подтвердили, что изменили порядок выдачи материалов дел репрессированных.
В Свердловской области сообщили, что в соответствии с приказом Росархива от 20 марта материалы теперь выдаются только родственникам, которые могут подтвердить родство. Соответствующее указание поступило 23 сентября.
В Челябинской области рассказали, что уже два месяца материалы о репрессированных выдаются только по документам, подтверждающим родство. В архиве также сослались на мартовский приказ Росархива, но пояснили, что на уровень архива он поступил только сейчас.
В Костромской области сказали, что «без всяких осложнений» дела репрессированных выдаются только родственникам. Те, кто не может подтвердить родство, подают запрос на выдачу дела, его направляют в Росархив, и последний дает разрешение либо отказывает. Такая практика началась еще в июне, уточнили в архиве. Подобный запрос в Росархив из Костромской области направили в июле, и по состоянию на 1 октября ответа все еще не было.
В архивах Нижегородской, Владимирской, Ярославской, Архангельской, Кировской областей сообщили, что у них никаких новых ограничений на выдачу дел нет.
В Российском государственном архиве Самарской области рассказали, что дел репрессированных у них нет, но упомянули, что сейчас действительно есть «определенные ограничения» на ознакомление с такими делами, связанные с родством.
В Государственном архиве Костромской области (там хранятся административные дела репрессированных, в том числе о раскулачивании) сказали, что у них действуют стандартные ограничения, но предупредили, что каждая отдельная ситуация будет рассматриваться индивидуально руководством. «Определенная строгость появилась», — констатировали там.
«ОГРАНИЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ УГРОЗЫ»
Приказ Росархива о порядке отнесения архивных документов к категории, содержащей служебную информацию ограниченного распространения, был подписан 20 марта его руководителем Андреем Артизовым. В приказе говорится, что к такой информации относится несекретная информация, распространение которой может создать потенциальную угрозу интересам России. Перечень такой информации разрабатывается Росархивом по предложениям федеральных органов власти. Он имеет пометку «Для служебного пользования».
Внесением документов в ограничительный перечень, как и снятием ограничений, занимается специальная комиссия. Доступ к документам, на которые было наложено ограничение, закрывается федеральным архивным учреждением, государственным или муниципальным архивом со дня внесения изменений в учетные документы на основании приказа Росархива. Такие приказы, а также протоколы заседания комиссии имеют пометку «Для служебного пользования», говорится в приказе от 20 марта.
Исследователь Василий Редекоп летом направил запросы в Росархив, Минюст и администрацию президента. Из администрации президента ему пришел ответ о том, что наделение Росархива соответствующими полномочиями продиктовано «необходимостью защиты интересов Российской Федерации в условиях беспрецедентного экономического, политического и информационного давления на Российскую Федерацию и совершения в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественных действий иностранными государствами и территориями». В частности, необходимо защищать архивную информацию от искажений или использования в интересах недружественных государств, говорится в ответе. Сейчас в архивах хранятся около 4,5 млн дел, в которых содержится «чувствительная информация», использование которой может нанести ущерб интересам России, указали тогда в администрации президента.
РБК направил запрос в Росархив с просьбой разъяснить ситуацию, на следующий день агентство опубликовало официальное заявление. В нем говорится, что агентство утвердило перечень служебной информации ограниченного распространения, но он не был опубликован, так как содержит в том числе информацию в области обороны и обеспечения государственной безопасности. Этот перечень включает в себя информацию о документах, содержащих сведения о жертвах политических репрессий.
В заявлении также говорится, что комиссия пока не рассматривала архивные дела и не выносила решения об отнесении их к документам, содержащим служебную информацию ограниченного распространения.
Историк, председатель правления общества «Мемориал» (признано в России иноагентом и ликвидировано решением Верховного суда) Ян Рачинский (признан Минюстом иноагентом) считает, что заявление Росархива «мало что разъясняет». «По существу они стараются снять с себя ответственность. <...> Если этому верить, то в Екатеринбурге ссылаются на несуществующие ограничения», — привел он в пример ситуацию с Государственным архивом административных органов Свердловской области. Рачинский обратил внимание на то, что перечень информации ограниченного распространения не опубликован, поэтому нельзя будет узнать конкретную причину того, почему нельзя ознакомиться с тем или иным делом.
Решение ограничить доступ к делам репрессированных — «местная самодеятельность», уверен историк Никита Петров. Он напоминает, что такие дела для исследователей «открывает» закон «О реабилитации жертв политических репрессий». Он позволяет на основе другого закона — «Об архивном деле» — открывать для общего доступа дела спустя 75 лет со дня их создания.
«ПОНИМАЕТЕ, ЭТО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СУДЬБЫ, И К ЭТОМУ НАДО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО ОТНОСИТЬСЯ»
Исследователи сходятся во мнении, что в последние годы доступ к материалам о репрессиях советского периода последовательно ограничивается. «То, что вчера выдавали, сегодня уже не выдают. Например, личные дела сотрудников министерств, ведомств: раньше они выдавались, но сейчас говорят, что там содержится личная тайна», — рассказал Никита Петров.
Понятие личной тайны относится только к живым людям, указывает Ян Рачинский. «Если там есть запросы родственников, которые еще живы, значит, закрывайте данные этих родственников. Но у мертвого человека уже нет личной тайны — это, так сказать, общая юридическая позиция», — поясняет он.
С этим не согласен замдиректора по научной работе Института российской истории РАН Сергей Журавлев — он утверждает, что тайна личной жизни касается и живых, и уже умерших людей, у которых есть живущие родственники.
Один из исследователей, работающих в Государственном архиве (Госархиве), попросивший об анонимности, также отметил, что в последнее время заказанные для работы дела приходят с зашитыми и упакованными в конверты отдельными страницами. По словам собеседника РБК, там находятся материалы, касающиеся реабилитации, в том числе допросы свидетелей, донесения и так далее. «И везде написано «личная тайна» <...> В итоге от всех документов по реабилитации остается только решение прокуратуры или Верховного суда, реабилитирующего органа», — сетует он.
Помимо этого процесс копирования дел стал более формализованным и длительным. Кроме того, усложнилась и сама процедура запроса архивных дел, из-за чего увеличились сроки их получения, утверждает собеседник РБК.
Исследователь проекта «Последний адрес» Михаил Шейнкер, в свою очередь, обратил внимание на то, что раньше можно было направить прямой запрос в региональное управление ФСБ, чтобы запросить дело, находящееся в его архивах. Однако сейчас все запросы проходят только через Центральный архив, который уже сам контролирует процесс выдачи дела.
На рубеже 1980–1990-х годов архивные источники стали открываться для исследователей, и многие сенсационные документы, в том числе касающиеся массовых репрессий в 1930-е годы, стали достоянием общественности, напоминает замдиректора по научной работе Института российской истории РАН Сергей Журавлев. «И было довольно много скандалов, связанных с этими вещами. Поэтому мне кажется логичным, что законодательство стало более строгим в этом отношении», — заключает он. При этом ученый признает, что исследователям стало труднее работать с источниками информации.
Что касается «чувствительной информации», к которой могут ограничивать доступ, Журавлев предполагает, что это могут быть обвинения в шпионаже в пользу иностранных государств, данные о деятельности «бандеровцев» или «Лесных братьев» в Прибалтике. «Но все это нужно оценивать применительно к конкретным материалам», — оговаривается он.
Помимо этого из-за тайны личной жизни закрываются, например, личные дела партийных работников, которые получили наказания за неблаговидные поступки, такие как пьянство или сожительство.
К раскрытию дел необходимо подходить очень аккуратно, уверен Журавлев. Он привел в пример случай из своей жизни, который произошел в 1990-е годы: «Я работал в архиве, а за соседним столом сидела девушка — дочь репрессированного, о судьбе которого она не знала. И вдруг я вижу, как меняется на глазах ее лицо и она падает в обморок. Выясняется, что она прочитала в этом следственном деле, что донос на ее отца, который погиб в ГУЛАГе, написал сосед. И он как ни в чем не бывало многие годы приходил к ней в гости, они очень мирно беседовали, чуть ли не дружили с ним. А оказалось, что он был повинен в смерти ее отца. Понимаете, это человеческие судьбы, и к этому надо очень осторожно относиться».